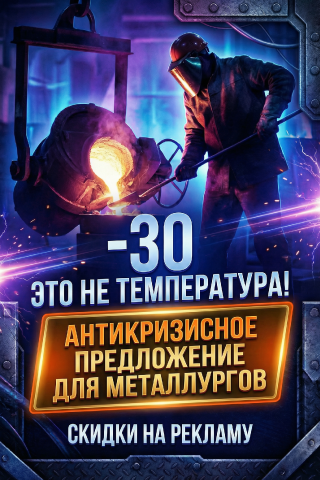Фантомы капитализации — так можно назвать неосязаемую, но реальную биржевую оценку компаний, которая движет рынками не хуже потоков металлов.
Их не увидеть в домнах, но именно они превращает ожидания в стоимость. И в разных странах это проявляется по-разному.
США: премия за капитализм
На американском рынке инвесторы платят не за тонны и домны, а за прибыль, устойчивость и стратегический нарратив — хорошо упакованную историю о будущем компании, в которую инвесторы готовы поверить.
Масштаб капитализации американских металлургов отражает не столько реальное состояние отрасли, сколько глобальное доминирование США в капитале. В результате в физическом производстве лидирует Китай, но в стоимости активов — Америка.
Такой разрыв между физическими и финансовыми показателями объясняется просто: высокая капитализация — это не столько об эффективности производства, сколько премия за доверие к системе. Когда инвестор покупает акции американской компании, он платит не только за сам бизнес, но и за надёжные институты, предсказуемые правила игры, глубокий рынок капитала и практически мгновенную ликвидность — сделки совершаются за секунды, и почти всегда находятся и покупатели, и продавцы.
Покупая акции Nucor или U.S. Steel, инвестор получает доступ к крупнейшему и самому ликвидному фондовому рынку мира, который, несмотря на регулярные апокалиптические прогнозы, продолжает расти.
В этом постоянном росте значительную роль играют пенсионные и страховые фонды, аккумулирующие триллионы долларов, которые и по закону, и по логике финансов должны работать — инвестироваться в ценные бумаги.
Таким образом, фондовый рынок США выполняет ещё одну важнейшую функцию — это резервуар для избыточной ликвидности.
Иными словами, высокая капитализация компаний отражает не только их эффективность, но и колоссальный объём денег, вращающихся на американском фондовом рынке.
Что касается капитализации отдельных американских компаний, то рынок закладывает в их цену «биржевую премию» за прозрачность, стабильность и доверие к корпоративной модели. В итоге американская компания может производить меньше, но стоить дороже азиатского гиганта.
Так, Nucor выплавляет порядка 18–20 млн тонн стали в год — примерно вдвое меньше, чем Nippon Steel (43–45 млн тонн), но при этом капитализация Nucor на текущий момент 31–32 млрд долларов, а у Nippon Steel — 21–22 млрд долларов, в полтора раза ниже.

Nucor выплавляет порядка 18–20 млн тонн стали в год
Сделки по слиянию и поглощению (M&A) — ещё один драйвер капитализации. Покупка U.S. Steel компанией Nippon Steel показала, как работает этот механизм: японцы предложили премию почти 40% к рыночной цене, и котировки сразу пошли вверх.
Такие сделки не только повышают стоимость акций, но и усиливают интерес инвесторов ко всей отрасли.
Новый двигатель капитализации — ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).
Эта идея оформилась в середине 2000-х и стала мейнстримом после 2015 года, когда ESG-рейтинги вошли в стандарты глобальных фондов.
Для США ESG остаётся скорее частью корпоративного имиджа и стратегического нарратива, чем промышленной политики, хотя есть и реальные проекты.
А вот в Европе ESG давно уже стала индустриальной политикой — с грантами, квотами и механизмами поддержки, направляющими инвестиции в «зелёную» металлургию и энергетику.
Европа: сталь, субсидии и фантомы «зелёной» экономики
В Европе фантомы капитализации рождаются не на Уолл-стрит, а в Брюсселе. Здесь главный драйвер не сделки по слиянию M&A, а политика Еврокомиссии: гранты, квоты, климатические пакеты. В результате рыночная стоимость растёт даже тогда, когда домны в Дуйсбурге остывают.
ESG-политика в EC превратилась в инструмент перераспределения капитала: институциональные инвесторы обязаны держать долю ESG-активов, а «зелёные» проекты получают льготное финансирование и биржевые бонусы, даже если реальный выпуск стали снижается.
После энергетического кризиса 2022 года эта зависимость только усилилась: при высокой цене на газ и электричество многие предприятия в Германии, Франции и Италии работают с пониженной загрузкой, а некоторые цеха и заводы уже фактически законсервированы. Но капитализация базируется на ожиданиях рынка — на водородных проектах и субсидиях, которые ещё только обещают рост.

ESG-политика в EC превратилась в инструмент перераспределения капитала.
Сегодня европейская металлургия, как и многое в Европе, живёт по правилам двойной бухгалтерии: производство сжимается, но в отчётах и СМИ ЕС остаётся лидером «зелёной трансформации».
Но пока Европа вкладывается в «зелёную повестку» и дотации, Азия молча строит и скупает цеха по всему миру.
Япония и Южная Корея: стратегия вместо биржевой игры
Япония и Корея — стратегические игроки, где металлургия встроена в национальную политику и экспорт. Здесь капитализация растёт не на настроениях трейдеров, а на реальной промышленной политике.
Капитализация японских гигантов Nippon Steel и JFE Steel заметно ниже американских. Причина в том, что японский рынок капитала менее спекулятивен и гораздо консервативнее: пенсионные фонды традиционно предпочитают облигации, а не акции.
Зато японцы активно выходят на мировой рынок через слияния и поглощения, как в случае с покупкой U.S. Steel. Инвесторы в Японии делают ставку на промышленную стратегию, а не на биржевую игру.
Показательно, что знаменитый инвестор Уоррен Баффет, «оракул из Омахи», в последние 5–6 лет приобрёл значительные доли в пяти крупнейших японских торговых домах, чья ценность основана не на обещаниях ESG, а на сырье, судах, нефти и стали.
Южная Корея выстраивает схожую модель: рост котировок здесь обеспечивают не эмоции и ожидания рынка, а государственные программы и экспортные заказы. Корейская металлургия — часть единого промышленного комплекса страны: POSCO производит сталь для Hyundai, Kia и Samsung, обеспечивая их проекты — от судостроения до энергетики.
Чтобы увидеть разницу между американскими и японскими металлургами, достаточно взглянуть на цифры — показатель EV/EBITDA говорит сам за себя.
Он показывает, во сколько раз рынок оценивает компанию выше её годовой операционной прибыли. Чем выше коэффициент, тем больше инвесторы готовы платить за стабильность, перспективы и доверие к системе.
Что такое EV и EBITDA
EV (Enterprise Value) — капитализация компании + долги − денежные средства.
EBITDA — это годовая прибыль компании без учёта налогов, процентов и амортизации.
То есть, если показатель равен 5 — инвесторы готовы заплатить пять годовых прибылей, и рынок считает это справедливой ценой.
У американских металлургов этот показатель держится на уровне 13–14, у японских — примерно 4–6. То есть рынок платит за американские компании вдвое-втрое больше при схожей реальной эффективности.
Причина такой большой разницы не в производственных показателях и уровне технологий, а в масштабах фондовых рынков и, если угодно, в темпераментах: рынок США живёт на быстрой ликвидности и ожиданиях, а рынок Японии — на сбережениях и осторожности.
Китай: тонны вместо фантомов
Китайские гиганты производят более половины мировой стали под контролем государства, и биржевые фантомы им не нужны: ценность компаний измеряется не в капитализации, а в миллионах тонн.
Акции металлургов, конечно, торгуются на биржах Шанхая и Шэньчжэня, но реальные решения принимаются не рынком, а государством. А биржа служит витриной — для отчётности, а не для инвесторов.
Китайская модель — противоположность американской и европейской: никаких игр в ESG и спекуляций на ожиданиях, только государственные заказы, стратегические программы и реальное производство.

В йеху одного из предприятий Nippon Steel.
Современная экономика работает в двух измерениях одновременно. Да, биржевые рынки создают стоимость, нередко завышенную по отношению к реальному производству, но это совсем другой мир — со своими законами и динамикой.
Инвесторы платят не за металл и станки, а за управление рисками, сценарии будущего и ожидания, на которых строится капитализация. Это две разные, но одинаково реальные системы координат. Фантомы капитализации не берутся из воздуха — за ними стоят расчёты, модели и холодный анализ.
Вадим Чепига