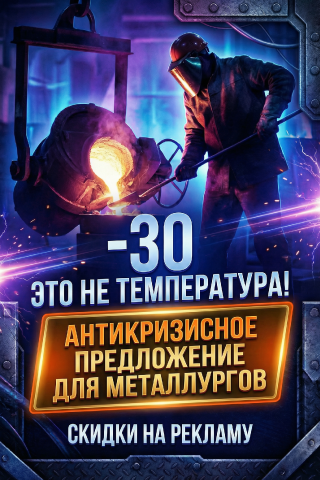Всего несколько лет назад Грета Тунберг, плывущая на паруснике в Америку, чтобы выступить в ООН, как малолетний крестоносец экологического похода, была символом активизма. Собственно говоря, она и осталась символом активизма — только теперь с неоднозначным отношением окружающих.
И дело не только в её неудачных попытках десантироваться в Израиль. Несчастный ребёнок стал примером пиар-манипуляций серьёзных людей и корпораций, инструментом политической борьбы. По большому счёту вся эта история должна проходить по статье о вовлечении малолетних в проституцию. Но…
Цена чистого воздуха назначается в Брюсселе и Вашингтоне
2025 год во многих стратегических документах ЕС и США должен был стать одним из ключевых моментов «зелёной трансформации» экономики. Но кое-где поменялась власть, где-то проснулся здравый смысл, кто-то начал считать раны, нанесённые экономике экологической революцией, и началась обратная реакция. Проблемы возникли не только в Америке и Европе, но и в других частях света.
Наиболее ярко новые веяния проявились в политике нового президента США Дональда Трампа, который буквально приходит в ярость, когда слышит про Киотский протокол, Парижское соглашение по климату и прочие документы, которые заставляют американскую промышленность тратить деньги на выполнение совершенно непонятных обязательств вместо того чтобы становиться «снова великой».
Отчасти это связано с тем, что глобальное потепление — это конёк демократов, начиная с Клинтонов и Гора.
Но в новой политике Трампа отражается также запрос американских промышленников и части правящей элиты, которая отказывается содержать паразитов от «зелёной повестки», присосавшихся к госдотациям, инвестициям и налоговым поблажкам.
Ведь так называемая «декарбонизация» на самом деле является частью масштабной и разнообразной политики, в рамках которой, например, законодательно снижалось давление воды в кранах простых американцев.
Радикальный сдвиг в энергетической и климатической политике США при администрации Трампа в сторону поддержки традиционных ископаемых видов топлива и традиционных технологий, а также отказа от субсидирования «зелёной» энергетики должен не только возродить американское производство, но и сделать его конкурентоспособным с азиатским. Дабы смешные ролики про толстопальцевых пузатиков, медленно собирающих айфоны, канули в Лету.
Трамп решительно снял табу на обсуждение проблем декарбонизации. И его единомышленники в Западной Европе немедленно подхватили тему.

Трамп решительно снял табу на обсуждение проблем декарбонизации.
Справедливости ради нужно заметить, что на металлургию приходится лишь 9% выбросов тех самых парниковых газов, которые так беспокоят экологов. Для сравнения, 43% — на энергетику и теплоснабжение (тут уж ничего не поделаешь, перспектива замёрзнуть зимой во славу Святой Греты никому не улыбается). Но всё-таки и 9% — это значимый объём.
Европа готовилась эти выбросы радикально сократить. Но в декабре 2024 года «Financial Times» публикует открытое письмо Лакшми Миттала, владельца одной из крупнейших в мире сталеплавильных компаний (холдинг ArcelorMittal), которое говорит само за себя:
«Печальная реальность заключается в том, что европейская сталелитейная промышленность сталкивается с беспрецедентными проблемами, отягощёнными затратами на декарбонизацию, с одной стороны, и последствиями глобального перепроизводства, особенно в Китае, с другой, что привело к значительному увеличению импорта.
После мирового финансового кризиса производство стали в Европе упало на треть, а количество рабочих мест сократилось на 25%. Спрос не восстановился до допандемического уровня, что в сочетании с ростом цен на энергоносители и увеличением импорта способствовало снижению рентабельности до уровней, не наблюдавшихся в отрасли со времён пандемии. Падение прибыли происходит в то время, когда ожидается, что отрасль примет окончательные решения по проектам декарбонизации, которые требуют миллиардов евро инвестиций в такие технологии, как зелёный водород, которые до сих пор не стали экономически жизнеспособными».
Далее Лакшми Миттал объясняет, почему его холдинг откровенно «слил» мероприятия по «зелёной повестке», отказавшись (точнее, отложив на неопределённое время) переход на «нежизнеспособную» водородную металлургию.
«Я убеждён, что Европа может поддерживать инновационную и конкурентоспособную сталелитейную промышленность, но она должна решить: хочет ли она производить железо и сталь на континенте? Или она предпочитает импортировать его, учитывая риск увеличения выбросов углекислого газа в других странах?
Это важнейший вопрос, требующий срочного ответа. Если есть искреннее намерение поддержать отечественную промышленность, необходимо скоординировать различные политики для создания благоприятной среды, которая поможет европейской сталелитейной промышленности декарбонизироваться и расти. Отсутствие такой среды является причиной того, что мы недавно объявили: в настоящее время компания не может принять решительные инвестиционные решения по переводу доменных печей на более устойчивые технологии с точки зрения выбросов углерода».
Сакраментальный вопрос современности: шашечки или ехать? Декарбонизация или рост? И, кажется, ответ на него всё более очевиден.

Лакшми Миттал объяснил, почему его холдинг откровенно «слил» мероприятия по «зелёной повестке».
Ставка на «зелёный водород» в Европе не сыграла
Нельзя сказать, что концерн Миттала ничего не делал в отношении «зелёной повестки». В частности, ArcelorMittal в июле 2021 года анонсировал строительство завода для выпуска железа прямого восстановления (DRI) посредством использования водорода с годовым объёмом 2,3 млн т в испанском Хихоне. Стоимость проекта на тот момент составляла €1 млрд.
Предполагалось, что уже в 2025 году новое предприятие заработает и начнёт поставлять продукцию на электрометаллургический завод ArcelorMittal в Сестао.
Но в конце ноября прошлого года концерн официально объявил, что проект «заморожен» на неопределённый срок. В качестве причин указывались неблагоприятная рыночная и энергетическая ситуация, а также медленное развитие инфраструктуры «зелёного» водорода.
С аналогичными проблемами столкнулся крупнейший немецкий стальной производитель, концерн Thyssenkrupp AG. В конце марта он приостановил (также на неопределённый срок) тендер на закупку «зелёного» водорода для завода по производству DRI в Дуйсбурге мощностью 2,5 млн т в год. Сам тендер был объявлен ещё в феврале 2024 года.
«Становится ясно, что цены на водород будут значительно выше предполагаемых, а другие рамочные параметры водородной экономики, которая развивается медленнее, чем ожидалось, существенно изменятся», — было сказано в официальном комментарии концерна. Что не удивительно. Затраты на производство «зелёного» водорода методом щелочного электролиза в Германии агентство S&P Global оценивает в €9,35/кг (кстати, в середине декабря прошлого года было €14,5/кг, ещё дороже).
С учётом того, что заводу в Дуйсбурге необходимо 151 тыс. тонн газа ежегодно в течение 10 лет, речь действительно о неподъёмной сумме. Поэтому проекты развития водородной металлургии в Европе сейчас поставлены на паузу.
Что же произошло? Никто до сих пор не смог решить ряд фундаментальных технологических проблем, связанных с использованием водорода. Этот газ оказывается не только очень летучим, всё время стремящимся покинуть земную атмосферу, но также является легковоспламеняющимся, взрывоопасным.
Получение жидкого водорода для его транспортировки требует температуры ниже -252,8 оС, что непросто.
Есть у водорода и такое свойство, как высокая диффузионная подвижность. В твёрдом металле атом водорода движется со скоростью до 15 сантиметров в час! И при этом в стали могут возникать дефекты — есть даже специальный термин «водородная хрупкость», водородное растрескивание, в металле появляются флокены (дефекты внутреннего строения стали). В чём же его хранить и по каким трубам транспортировать? Но всё это можно было бы решить, если бы удалось найти решение для главной проблемы: снижения высокой себестоимости.
«Для того чтобы водород получить, вы должны затратить энергию. Причём довольно много. Если придётся резко наращивать производство водорода, это повлечёт за собой дополнительные затраты энергии и нагрузку на окружающую среду. До 95% текущего мирового производства водорода (приблизительно 70 миллионов тонн в год) производят сейчас паровой конверсией газа или нефти. При этом, кстати, тоже производя попутно углекислый газ. Пока себестоимость «зелёного» водорода не упадёт в пять раз, хотя бы до 2,5 евро за килограмм, в металлургическом производстве его использование будет нерентабельным. Но до этого ещё очень далеко», — заявил «Про Металлу» академик РАН, руководитель лаборатории в Институте металлургии и материаловедения (ИМЕТ РАН) Константин Григорович.

Санкции против России привели к тому, что электроэнергия в ЕС стала значительно дороже.
Не водородом единым
Конечно, «зелёная повестка» в металлургии не сводится к использованию только водорода. Например, серьёзное влияние могло бы оказать развитие электрометаллургии и отказ от доменного процесса. Увеличение доли выплавки стали в электродуговых печах с использованием металлолома может дать значительный эффект для сокращения выбросов.
Однако же в Европе и тут возникла большая проблема — а где эту электроэнергию брать после отказа от дешёвых ископаемых энергоносителей из России?
Надо сказать, что целый ряд доменных производств в Западной Европе, принадлежащих ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Salzgitte, в последние годы остановили свою работу. Но не для спасения экологии, а чисто из соображений рентабельности. Практически уничтожена сталеплавильная отрасль Великобритании, где закрыла самый крупный завод индийская Tata Steel.
По этой же причине в Европе пришлось останавливаться и предприятиям цветной металлургии — например, алюминиевому заводу в Словакии, цинковому заводу в Нидерландах. Но как открыть на месте такого производства что-то новое, значительно менее энергоёмкое?
Это невозможно. Ведь ещё один краеугольный камень «зелёной повестки» — возобновляемые источники энергии — не был реализован так, как планировалось. Подточенная массовым внедрением возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вкупе с отказом от традиционных энергоносителей, энергетика западных стран начала давать один сбой за другим.
Например, несколько месяцев назад внезапно последовал блэкаут, когда свет вдруг исчез во всей Испании, Португалии и половине Франции. И характерно, что ясного официального разбора причин этого явления со стороны чиновников ЕС так и не последовало. Иначе пришлось бы признать, что ВИЭ не могут обеспечить стабильность энергоснабжения. Хуже того, попытка перехода на «зелёную энергию» обострила проблему перетоков электроэнергии между регионами, и выяснилось, что это требует гигантских затрат на реконструкцию сетевой инфраструктуры — а таких денег у ЕС сейчас нет.
«Плотность солнечной и ветряной энергии довольно низка, и увеличить её физически невозможно. Переход на подобные источники энергии в 4–8 раз снизит выработку электричества в расчёте на душу населения», — отмечает футуролог Сергей Переслегин.

Возобновляемые источники энергии пока не могут заменить нефть, газ и уголь.
«Чёрный континент» уже не хочет зеленеть
Когда о предстоящей ESG-трансформации только было объявлено миру, на чёрном континенте новость встретили с некоторым воодушевлением: предполагалось, что Запад даст на это денег нищим государствам, у которых, несмотря на всё богатство недр, средств в бюджете на подобные программы по определению не было.
В Африке изменение отношения к зелёному проекту на значительно более скептическое в последние годы было связано с провалом широко распиаренного проекта «Великая зелёная стена».
Его суть заключалась в масштабном высаживании лесов по границе великой пустыни Сахара с тем, чтобы остановить её распространение на новые территории — на 160 млн гектаров. Параллельно проект предполагал создание 10 миллионов рабочих мест!
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что проект обернулся масштабным распилом, а позитивного результата не дал. В его реализацию собирались вложить $33 млрд, но освоили лишь 2,5 млрд, причём без видимых результатов. Какое-то количество деревьев, говорят, высадили, но попробуй, проверь — в местностях, где орудуют отряды экстремистов-туарегов... Все упёрлось в отсутствие финансирования. Проект формально не закрыт, но доноры никак не договорятся, кто и сколько заплатит.
Что касается металлургии, то её на континенте, за несколькими исключениями (ЮАР, Алжир и т.д.), в большинстве стран просто нет. А с учётом необходимости работать в условиях жёстких требований «зелёной повестки» — и не будет. Зато есть горнорудная отрасль, где большинством игроков требования «зелёного перехода» и бережного отношения к окружающей среде отродясь не соблюдались.
Опять же за редкими исключениями, к числу которых, кстати, можно отнести российские проекты — компаний NordGold и «Русал». Остальные же продолжает кустарными и варварскими методами добывать золото, медь, кобальт и всё, что сейчас можно с выгодой продать.

Та самая "Великая зеленая стена" на карте Африки.
Латинская Америка: проблемы вместо бонусов
Ирония заключается в том, что для производства «экологичного» электротранспорта необходимо сперва добыть массу полезных ископаемых, нанеся природе ощутимый ущерб. Именно с этим эффектом столкнулся ряд государств Латинской Америки, которые, казалось бы, должны быть в числе бенефициаров «зелёного перехода», обладая большими запасами «критических минералов».
Как известно, современный электротранспорт завязан на использовании литий-ионных аккумуляторов. В Латинской Америке расположен так называемый «литиевый треугольник» (Аргентина, Боливия и Чили). Там находятся самые дешёвые в мире по себестоимости добычи месторождения этого металла — в солончаках. Но бесконтрольная и масштабная добыча «новой нефти», как называют литий, наносит непоправимый ущерб природе региона.
Похожая картина наблюдается и с другим металлом, необходимым для «энергоперехода» — с медью. Это Чили, Панама, ряд других государств. В которых медные рудники к тому же работают под контролем западных корпораций, снимающих все «сливки». Что приводит к постоянным конфликтам вплоть до того, что правительство Панамы в 2023 году остановило в стране медные рудники в знак протеста против навязанного транснациональной компанией в своё время стране кабального договора (и только в 2025 году возобновились переговоры о новом соглашении, учитывающем национальные интересы).
На континенте много говорят и пишут о том, как западные компании вырубают латиноамериканские девственные леса, добираясь до полезных ископаемых, необходимых ЕС и США для «зелёного перехода». Писать то пишут, но ничего не меняется.
Несмотря на растущее сопротивление местных сообществ, коренных народов и экологических активистов, которые указывают на катастрофические последствия этого для окружающей среды.
Отдельно стоит упомянуть о мексиканской стали. У стальной отрасли этой страны есть интересная особенность — она больше чем на 90% выплавлена с использованием электродуговых печей. То есть это, по идее, должна быть самая «экологичная» в мире электрометаллургическая сталь. Что не помогает ей вообще никак в продвижении на внешних рынках.
Трамп грозит ввести пошлины в 50% на мексиканскую сталь (а заодно на медь и алюминий из этой страны). Абсолютно не рады экологичной стали из Мексики и в Европе — конкуренции, оказывается, никто не любит.

Трамп грозит ввести пошлины в 50% на мексиканскую сталь, хотя она более чем экологична.
Как «зеленеет» Азия
Китай — одна из немногих стран, которая сумела много выиграть от стремления Запада к «зелёному переходу». Именно в КНР смогли развить технологии и создать на их основе производства, без которых такой переход невозможен. Хотите солнечную энергию? Солнечные батареи купите у нас. Хотите электромобили? Мы будем первыми в мире по количеству этих выпускаемых транспортных средств.
Китай стал монополистом на рынке многих так называемых «критических минералов». Например, после десятилетий экспериментов (лучше не думать, какой ущерб при этом был нанесён окружающей среде) Китай овладел технологией разделения коллективного концентрата редких земель и производства из РЗМ готовой продукции — в частности, сильных магнитов, без которых немыслимы ни ветрогенераторы, ни электрокары, при этом вызвав лютую ненависть у стран Запада (и в первую очередь, у США), которые этой зависимостью крайне тяготятся. В будущем это может быть чревато для КНР серьёзным внешним конфликтом.
С другой стороны, под удар «экоповестки» попала китайская дешёвая сталь. КНР — крупнейший в мире производитель стали (под миллиард тонн в год). Сейчас китайские сталевары столкнулись с мощным кризисом перепроизводства. Им приходится снижать цену на свою продукцию. А США и Западная Европа всеми силами от их экспорта отбиваются, апеллируя, в том числе, к несоблюдению ими требований «зелёной повестки» (о чём, кстати, упоминает Лакшми Миттал в процитированном нами выше письме). Интересно, что в последние годы в Китае развивали электрометаллургию. И, тем не менее, доля стали, производимой по технологии «доменная печь — кислородный конвертер», там составляет 90%.
Чего для Китая получится в итоге на круг больше — приобретений или потерь — при попытке играть в западные «игры» с «зелёным переходом», покажет время.
В другой великой стране Востока, в Индии, отношение к «зелёной повестке» вполне двойственно и крайне прагматично. С одной стороны, Индия объявила недавно, что уже достигла (досрочно!) одной из своих ключевых экологических целей — 50% установленной мощности электроэнергии в стране обеспечивается из неископаемых источников (ВИЭ и атомная энергия). Это случилось к июлю 2025 года, а планировалось в 2030-м.
Но при этом никто в руководстве этой страны не собирается отказываться от нефти и газа (включая СПГ). В том числе от импортируемых из России (несмотря даже на прямое давление президента США, который требовал отказаться от приобретения российских углеводородов). Очень рады в Индии и российскому углю — как энергетических марок, так и в ещё большей мере коксующемуся. И никакая «зелёная повестка» этому не мешает.

Китай зеленую повестку учитывает, но действует в собственных интересах.
Что это было?
Ради чего вводилась «зелёная повестка», которую ещё недавно с таким пылом пропагандировали евробюрократы и евроолигархи вроде Миттала? К слову, мы не берёмся судить за всё западное предпринимательское сообщество, но вот со стороны конкретно Миттала это было чистой воды лицемерием. Доказательством может служить история его контроля над «Карметом» в Казахстане. Там он по максимуму экономил на экологии, ущерб окружающей среде ему был глубоко безразличен.
Обозреватель «Про Металла» имел удовольствие посещать город Темир-Тау и хорошо помнит разноцветный снег, который окружал комбинат... Но поскольку Лакшими Миттал экономил ещё и на технике безопасности, то после длинной серии катастроф с человеческими жертвами его всё-таки попросили на выход из Казахстана. Заплатив, правда, компенсацию.
Но если не ради экологии, то ради чего? Есть мнение, что за счёт навязывания «декарбонизации» странам, не принадлежащим к третьему миру, элита «золотого миллиарда» собиралась получить одностороннее конкурентное преимущество для своих товаров и собирать с остального мира своего рода колониальный налог.
Но западные элиты сами загнали себя в ловушку — они переоценили свои возможности и пока не способны соответствовать заявленным критериям. Это требует вливаний, которых в западных экономиках, страдающих от значительного дефицита бюджетов, попросту нет.

Западные элиты сами загнали себя в ловушку — они переоценили свои возможности и пока не способны соответствовать заявленным критериям.
А что же Россия?
Россия от целей «зелёной повестки» не отказывается. Более того, в августе было объявлено о том, что РФ ужесточает свои климатические цели в соответствии с требованиями Парижского соглашения — правительству было дано поручение снизить выбросы парниковых газов к 2035 году до 65–67% от уровня 1990 года.
Но, вместе с тем, высшее руководство России явно не удовлетворено и складывающимися в последнее время темпами роста отечественной экономики. Которые довольно сильно упали.
Нашумевший в 24-м году доклад итальянского экс-премьера Марио Драги «Будущее европейской конкурентоспособности» представляет собой попытку балансировать между декарбонизацией и экономическим ростом, но прямо признаёт, что первое мешает второму.
Самые амбициозные «зелёные» планы в мире привели ЕС к самому удушающему бизнес ESG-регулированию.
Административное давление и перекрестная отчётность в экосфере не просто так названы коренными причинами отстающей конкурентоспособности ЕС: расходы на соблюдение требований только одной директивы «составляют до 12,5% от объёма инвестиций компаний со средней капитализацией». Бездумное экорегулирование бьёт больнее всего по малому и среднему бизнесу.
Конкуренты России за глобальные рынки начинают понимать свои ошибки, и рецепт экспертов Драги не отличается от выводов Дерипаски: для конкурентоспособности нужно инвестировать в промышленность, стимулировать инновации и сокращать бюрократию.
Западные бюрократические машины движутся медленно, но тренд уже понятен. России самое время сыграть на опережение — по своим, а не по чужим правилам.
Алексей Василивецкий