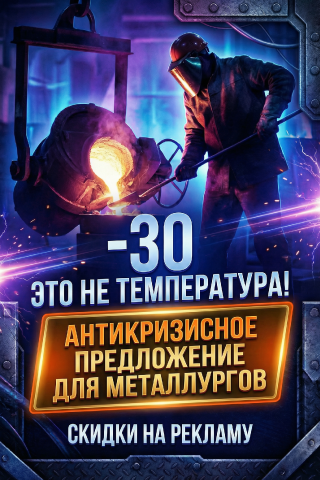Недавно почти одновременно Россия и США столкнулись с аналогичной проблемой: им нужно воссоздать суверенные отрасли редкоземельного производства. РФ своей лишилась после распада СССР, американцы — когда для удешевления перенесли её в Китай. Но задача, по сути, одна и та же: не быть привязанным к монопольному производителю, которым на сегодня для мира является Китай. В этом смысле нам интересно проанализировать опыт Штатов.
Недавно в западных СМИ появилось сообщение о том, что администрация США запускает крупнейшую за последние десятилетия программу — $100 млрд направят на создание собственных цепочек поставок критических минералов и редкоземельных металлов, а также на развитие энергетического экспорта через Экспортно-импортный банк США (EXIM Bank). Хватит ли этой суммы?
Об этом мы поговорили с экспертом по редким и редкоземельным металлам Александром Домовым, работавшим руководителем в РЗМ и энергетических проектах Росатома и частных компаниях. А ещё Александр Игоревич — автор крайне информативного телеграм-канала по редкоземельной тематике «Rare bird», где как раз недавно обсуждалась эта тема.
— Скажите пожалуйста, США пытаются восстановить редкоземельную отрасль: зачем им это нужно и сколько займёт этот путь?
— Китай ограничивает вывоз редкоземельной продукции в США. Они хотят исключить риск прекращения поставок. Начнём с главного: «создать РЗМ-отрасль» в США — это история не про строительство одного завода или рудника. Это длинная технологическая цепочка, где каждая ступень критична: добыча → разделение → металлургия → сплавы → порошки → магниты → готовые изделия.
Если проваливается хотя бы одно звено — цепь перестаёт работать и теряется синергия.

Эксперт по редким и редкоземельным металлам Александр Домов.
— Это и для России, которая свою цепочку по РЗМ сейчас старается выстроить, видимо, справедливо... Так американцы смогут этой синергии добиться и удовлетворить внутренний спрос?
— Проблема в том, что спрос там растёт быстрее, чем у США появляются новые мощности. США уже потребляют в год около 10–12 тыс. тонн РЗМ магнитов (в большей степени мы говорим о неодимовых магнитах). К 2030 году потребление вырастет минимум до 15 тыс. тонн и выше, потому что более половины всех РЗМ потребляются в виде магнитов, а рост выпуска электромобилей (EV), автоматизации и робототехники идёт двузначными темпами.
На этом фоне текущее производство в США — всего 2–3 тыс. тонн, причём в значительной степени на китайском сырьё. С 2027 года компаниям, работающим с ОПК, придётся использовать только локальные магниты — формально это возможно, потому что потребление «оборонки» ОПК сравнительно небольшое (по сравнению с гражданским сектором).
— Давайте разберёмся для начала, всё ли в порядке у США с собственным сырьём? В различных рейтингах их запасы ставят на второе место в мире? И что с добычей?
— Сложность для США в том, что там пока работает один рудник и на нём наблюдается отсутствие тяжёлых РЗМ, наиболее ценных.
На сегодня Соединённые Штаты располагают лишь одним крупным источником лёгких РЗМ — месторождением Mountain Pass, которое даёт около 1,3 тыс. тонн NdPr-оксидов (эквивалент примерно 4–5 тыс. тонн магнитов).
Это неплохой объём, но только по лёгким элементам, весь этот объём до недавнего времени экспортировался в Китай и возвращался обратно в виде готовых изделий.
А вот тяжёлые РЗМ (Dy/Tb), без которых невозможно производство высокотемпературных магнитов для EV, ВИЭ и оборонки, в США не добываются и не производятся вообще. Это делает импорт неизбежным. Поэтому американские компании уже ищут партнёрства в различных странах Австралии, Индии, Пакистане, и странах ЮВА — фактически признавая, что полного сырьевого суверенитета в ближайшие 10–15 лет у американцев не будет.

На сегодня США располагают лишь одним крупным источником лёгких РЗМ — месторождением Mountain Pass.
— Следующий необходимый этап — разделение коллективного концентрата РЗМ. Что у них с этим и что, собственно, с металлургией?
— Говоря коротко, технологии сохранились, школа исчезла. США обладают технологиями, но на уровне документации и отдельных специалистов. Однако промышленная школа была утрачена после того, как ключевые американские магнитные производства были переведены в Китай в конце 1990-х — начале 2000-х.
Сегодня идут попытки восстановить цепочку. Стоит назвать такие проекты, как MP Materials, USA Rare Earth, Solvay и Blue Line/Lynas. Но вот беда: инженерная школа ослаблена, и её формирование займёт минимум 3–5 лет, даже с учётом того, что компании переманивают специалистов из-за рубежа, из той же Азии, предлагая зарплаты в 3–5 раз выше (однако одновременно там же существуют законодательные ограничения на привлечение эмигрантов).
— Наконец, мы подошли к заводам по производству магнитов?
— Магнитные заводы — самое слабое звено (и здесь важно внести ясность).
Сегодня в США есть три ключевых проекта: Noveon Magnetics — около 2 тыс. тонн спечённых магнитов; MP Materials, которая отвечает за производство магнитных прекурсоров на заводе Independence в Форт-Уэрте, у них запланирован выход на ~1 тыс. тонн при полной загрузке; наконец, USA Rare Earth (Оклахома) — заявлено 4,5–5 тыс. тонн, запуск в 2026 году.
Если предположить, что все они заработают без задержек, США могут выйти к 2026–2027 годам на 8–10 тыс. тонн магнитов. Это соответствует внутреннему спросу — на бумаге.
Однако важно расставить точки над «i». В медиа периодически появляется утверждение, будто MP Materials якобы уже производит или вот-вот будет производить 10 тыс. тонн магнитов в год. Это не так.
Реальная мощность MP Materials сейчас — около 1 тыс. тонн.
Цифра «10 тыс. тонн» — это стратегическая цель, связанная с будущей 10X Facility, которую планируют запустить ближе к 2028 году. Это планы, а не текущие объёмы.
По факту же американский магнитный сегмент остаётся точечным, разрозненным и пока недостаточным для устойчивой загрузки всей цепочки.

Реальная мощность MP Materials сейчас — около 1 тыс. тонн.
— То есть на пути Соединённых Штатов к независимости по РЗМ ещё много тумана?
— Более чем достаточно. Деньги, сроки и не забудем главный парадокс: США создают независимость, но получают дорогие магниты.
Суммарные инвестиции в американскую цепочку РЗМ уже подходят к $100 млрд (стоит отметить, это деньги на программу всех критических элементов). Правда, Китай в своё время потратил на эти цели в 3–4 раза больше.
Но это не программа лидерства — это программа восстановления. Страна возвращает цепочку, которую потеряла 30 лет назад. И здесь есть неизбежный эффект: американские магниты будут дороже китайских минимум на 40–60%
Это вполне объяснимо: у Китая огромный масштаб (≈250 тыс. тонн производства и 400 тыс. тонн мощностей), кластеры, дешёвая логистика, переработка и полная вертикальная интеграция.
У США — разрозненные, вновь создаваемые мощности, которые не способны конкурировать с китайской себестоимостью. Из этого вытекают несколько важных последствий.
Во-первых, в ВПК и критической инфраструктуре проблема будет решена. Во-вторых, на гражданских рынках американские компании будут с этой продукцией неконкурентоспособны. Следовательно, государству неизбежно придётся дотировать производство магнитов, чтобы удерживать внутренние цепочки.
И всё это на фоне того, что программа займёт не менее 10 лет, а за это время Китай уйдёт ещё дальше.
— Каков же ваш итоговый вывод?
— Полагаю, США в обозримой перспективе смогут решить вопрос собственной национальной безопасности и восстановить критическую часть магнитной цепочки. Но конкурировать в этом сегменте с Китаем в ближайшие 20 лет — точно нет.
Алексей Василивецкий