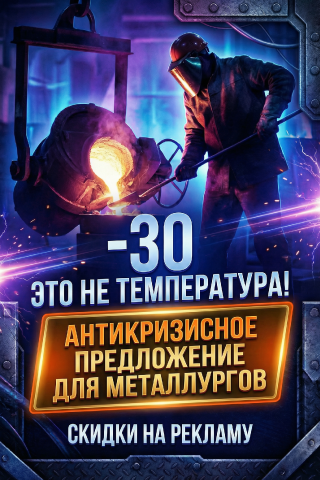На завершившемся на прошлой неделе «Иннопроме» в Екатеринбурге в очередной раз состоялась сессия «Рынок металлургического сырья в России». Однако же дискуссия вышла за рамки заявленной темы, ведь потребность в сырье определяется состоянием отрасли в целом.
Кстати, в ходе разговора поступило предложение на следующем «Иннопроме» через год провести «металлургический день», поскольку двух часов на обсуждение отраслевых проблем очень мало.
Рынок металлургического сырья, как и любой другой, определяется не только предложением, с которым в РФ всё более или менее в порядке, но также и спросом.
А вот спрос на протяжении последнего года заметно падал, так как с одной стороны сокращалась выплавка стали в России, а с другой — осложнялись условия для экспорта.
Выступивший на сессии заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев признал наличие объективных трудностей, но выразил надежду на то, что внутренний рынок стали нащупал в июне дно и теперь начнётся подъём. «Мы прошли некий переломный период», — отметил представитель Минпромторга.
Он напомнил, что в стране продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты в металлургии — это завод зелёной металлургии «Эколант» (планируемый ввод в строй — 2026 год), завод «Русской нержавеющей компании» по производству нержавеющей стали (первая очередь заработает уже в 2025 году), строится аглофабрика «Северстали» в Череповце и так далее.
Савельев, кстати, отметил, что от высокой ставки Центробанка есть и косвенная польза в том, что никто не строит «избыточные для отрасли мощности» — например, по производству арматуры, которой рынок и так переполнен. Андрей Андреевич напомнил, что, согласно Стратегии развития металлургии до 2030 года, поставлена задача выйти за ближайшие 5 лет на уровень выплавки стали в 90 млн тонн в год, и отметил, что это вполне реально.

Двух часов для обсуждения оказалось явно недостаточно.
В свою очередь директор Ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный отметил, что его структура совместно со специалистами ИА «Русмет» создали математическую модель развития отрасли. В расчёт принимались 10 факторов. Вывод исследователей был таков: если не произойдёт серьёзных изменений хотя бы по четырём ключевым позициям из этих десяти, в стальной отрасли не только не будет роста — продолжится спад.
Первый фактор — стоимость логистики, которая в последнее время растёт ускоренными темпами. По некоторым направлениям стоимость перевозки фактически сравнялась со стоимостью самого металла — и в чём тогда смысл его куда-то везти?
В Китае стоимость логистики, включая морскую, значительно ниже. Пока мы хотя бы не сравняемся с восточным соседом по этому показателю, конкурировать будет сложно.
К слову, Андрей Савельев возразил, что определённые позитивные изменения в этом плане уже идут. С одной стороны, «решает рынок» — металлурги всё чаще заменяют дорогие железнодорожные перевозки автотранспортными. С другой — руководство РЖД, заметив ощутимое снижение объёмов перевозок, начало предоставлять металлургам серьёзные скидки, до 50% по ряду направлений. «И это системные меры, а не преимущества для нескольких избранных компаний», — отметил Савельев.
Второй фактор, упомянутый Виктором Ковшевным, стоимость энергоресурсов. «Мы много посещаем металлургических предприятий в других странах и везде интересуемся, по какой цене они получают электроэнергию. И выходит, что в Китае и Индии они платят примерно тот же тариф, что и в России. У нас только если какой-нибудь технопарк расположен рядом с крупной ГЭС, металлургический завод в нём может рассчитывать на более дешёвую энергию. Но для нашей страны, которая производит и экспортирует энергоносители, держать высокие цены на электроэнергию — просто недопустимо!» — отметил Виктор Ковшевный.

Виктор Ковшевный и Андрей Савельев по многим моментам продемонстрировали совпадение точек зрения.
Третий фактор — денежно-кредитная политика. «По моему убеждению, если ставка ЦБ опустится до 15%, мы просто снизим темпы падения промышленности. До 12% — остановим спад. И только если она будет ещё ниже, начнётся рост», — полагает эксперт.
Четвёртый фактор — это сильный внутренний рынок. По этому же пути идут и другие страны, тот же Китай. Там другие масштабы, миллиард тонн выплавки в год, но, если посмотреть в относительных цифрах, мы увидим, что доля экспорта в общем стальном производстве всего порядка 10% или около того.
Если завтра Китаю полностью перекроют весь этот экспорт — для отрасли это не будет катастрофой. Поскольку внутренний спрос активно поддерживается государством, в том числе через инфраструктурные проекты. Также и в США — можно сколько угодно хихикать над тарифными войнами Трампа, но внутренний спрос он тем самым поддерживает.
Особо говорилось на сессии об экспорте. И Андрей Савельев, и Виктор Ковшевный сошлись во мнении о том, что конкурировать с дешёвой китайской сталью наиболее ходовых марок нашим производителям сегодня бессмысленно.
Как отметил Виктор Ковшевный, китайцы несколько лет назад поставили целью снизить себестоимость выплавляемой стали и планомерно шли к этому. В частности, китайские бизнесмены наладили выпуск никелевого чугуна в Индонезии, получив тем самым уникальное конкурентное преимущество.
А что же делать? Искать свои ниши, где требуется более сложные в изготовлении изделия. Например, те же китайцы с удовольствием покупают трубы из нержавеющей стали компании «Киберсталь». «Для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе, нашим сталеварам нужно занимать позиции в относительно узких сегментах — специальные легированные стали, трансформаторные стали, высокоуглеродистые стали и так далее», — отметили на сессии.

В зале заседаний сессии по металлургии.
При этом стоит помнить, что подрастает целая группа новых стран, которые могут составить нам конкуренцию. Например, Саудовская Аравия развернула недавно выпуск слябов и их поставку на те рынки, куда эту продукцию раньше поставляла Россия. Растёт металлургия во Вьетнаме и во многих других государствах. Так что скоро нашей металлургической отрасли придётся соревноваться отнюдь не только с Китаем и США. Кстати, Виктор Ковшевный озвучил на сессии свой прогноз о том, что в нынешнем году российский стальной экспорт упадёт ещё примерно на 10% (напомним, в 2024 году мы вывели 20 млн тонн стали).
«У нас есть серьёзные объективные конкурентные преимущества в отношении металлургии — обеспеченность сырьём, доступ к энергоресурсам, развитый «человеческий капитал», то есть квалифицированные работники. Если мы эти преимущества задействуем, то можем войти в группу стран-лидеров по выпуску стали. Если не сможем — окажемся в группе аутсайдеров. Напомню, новые страны на стальном рынке, о которых я говорил, ставят целью расти на 5% в год и выше. Так что если мы просто будем стоять на месте, то отстанем», — резюмировал Ковшевный.
Естественно, на сессии подробно обсудили и тему ломосбора, который в стране продолжает драматически сокращаться — на треть за первое полугодие нынешнего года.
«Когда в декабре прошлого года я давал прогноз о том, что потребление лома чёрных металлов в России в 2025 году составит 13 млн тонн, многие упрекали меня за излишний пессимизм. К сожалению, оказалось, что мой прогноз был ещё слишком оптимистичен, — отметил Виктор Ковшевный.
— Прошло полгода, и теперь мы можем сказать, что наш оптимистичный прогноз — 12,8 млн тонн, а пессимистичный — 11,5 млн тонн. В частности, растёт конкуренция между ломом и субститутами, чугуном и ГБЖ. А нужно учитывать, что ГБЖ в ряде регионов России в любом случае будет дешевле лома». Выход — снятие ограничений на экспорт. Квоты на экспорт лома чёрных металлов понемногу добавляют, но есть ли в них вообще необходимость в нынешней ситуации? Тем более, ломосбор — это ещё и вопрос сохранения экологии.
«Я понимаю, что нынешнее сокращение количества площадок для ломосбора для нашей отрасли не критично. Будет спрос — откроем новые. Также и с техникой по переработке лома: в случае чего мы её купим. Но вот что делать с подготовленными кадрами? Сейчас они разбегутся, где мы их потом соберём? 90 миллионов тонн выплавки — это хорошо, ну а кто обеспечит эти объёмы вторичным сырьём, когда придёт время?» — возмущался в кулуарах представитель «Уралвтормета». Но его вопросы пока оставались без ответа.
Алексей Василивецкий